Профессора
Профессора
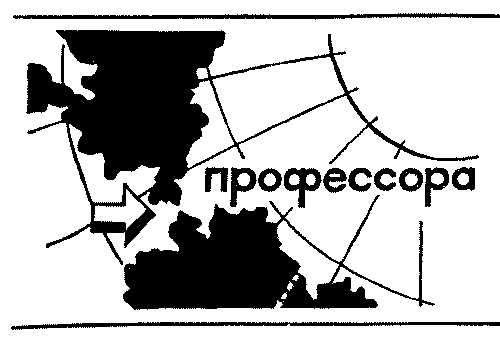
Здесь я попробую суммировать свои, так сказать, академические впечатления, не то чтобы все, но, во всяком случае, такие, которые были характерны для всей поездки. Поэтому глава вполне может получиться достаточно рассудительной и серьезной, как подобает главе, сочиненной профессором.
Впрочем, в Америке профессоров очень много. Едва ли не все школьные учителя ходят в профессорах разного рода, да еще и преподаватели университетов, зовущиеся профессорами традиционно; очень много в Америке профессоров, не меньше, наверное, чем у нас писателей и журналистов, вместе взятых, и это лишний раз свидетельствует о том очевидном факте, что звание само по себе не говорит еще ни о чем. Некоторые из американских бродяг величают себя ангелами, но крылья у них все равно не растут.
То, что в Америке званиям не поклоняются, нашло, наверное, отражение в огромном количестве директоров, президентов и председателей, профессоров, премьеров и даже королей (король юмора, король нищих, король фруктов), существующих и действующих в стране между Тихим и Атлантическим океанами.
Я просто был обязан написать такое вступление к главе, потому что терминологические разъяснения надлежит сделать уже вначале — это старое и хорошее правило, позволяющее избегать путаницы в привычных читательских представлениях. Какое-то время мне довелось преподавать в университетах, а значит, я был профессором, — и слово это, начертанное на афишах, предварявших мои выступления, вовсе не профанировало высоких титулов моих киевских, московских или тбилисских друзей, обремененных соответствующими документами и профессорствующих с полным знанием своего дела и положения в обществе. К моему титулу было, надо признаться, добавлено уничижающее словечко «гэст» — «гэст-профессор», то есть профессор в гостях — приехал, мол, и уехал, а нам дальше работать.
Теперь, когда я попытался ввести свой титул в систему уже существующих за океаном, сразу же скажу вам, что профессорство было интересным, и, надеюсь, небесполезным для обеих сторон. Студенты и разного рода американские профессора приходили на мои вечера и лекции без опозданий, задавали много вопросов и сами охотно отвечали на вопросы, возникавшие у меня. Ситуация облегчалась тем, что на многих моих лекциях — в Канзасе, к примеру, — присутствовал Джеральд Майклсон, председатель департамента славистики, по-нашему это вроде как заведующий кафедрой и конечно же профессор.
Если говорить очень серьезно, то я благодарен Джеральду Майклсону прежде всего за то, что он давно понял, насколько важен для американцев разговор о советской литературе и советской жизни, насколько много в Соединенных Штатах людей, желающих нового знания о далекой от них стране — во всех смыслах далекой, — непредубежденного знания, жажда которого естественна в человеке. В американцах желание знаний о Советском Союзе выболело, и, неутоленное, оно по-разному восполняется людьми из разных слоев общества. Моя признательность таким людям, как Джеральд Майклсон, организовавшим выступления, была связана и с их деловитостью. Лекции о советской литературе и творческие вечера одного из советских поэтов (то есть мои) ни в коем случае не носили характера очередного политического мероприятия (в каковые — при некотором желании американской стороны — они легко могли обратиться). Мы разговаривали откровеннейшим образом, предъявляя друг другу претензии, объясняя их или отвергая в дальнейшем, но беседуя и споря, как правило, очень конструктивно и конкретно. Так или иначе, русский язык сейчас, пожалуй, единственный из иностранных языков, изучаемых в США, популярность которого хоть понемногу, но возрастает, а ведь американцы ни за что не усердствовали бы в постижении бесполезных наук. Только не легки эти штудии.
Я просмотрел книги, расставленные по полкам на факультете славистики, служебную библиотеку самого Майклсона, и поразителен был этот коктейль из советских учебников, американских пособий, случайных книжонок, усердно рассылаемых антисоветчиками, многотомного Маяковского, с трудом раздобытого профессором в Ленинграде, и сочинений беглых княгинь, балующихся стишками в парижских апартаментах и публикующих оные стишки за собственный счет. Знание о нашей стране американец — даже профессор — может добыть, лишь просеивая гигантские мусорные кучи дезинформации, сортируя зерна самого разного рода, которых в итоге может набраться и на жемчужное ожерелье, и на корм петуху. Нас издают неинтересно и мало. То, что переводы американской литературы составляют седьмую часть всех зарубежных переводов, выпускаемых в СССР, примером для заокеанских издателей — увы! — не стало, и страдают от этого прежде всего американские же читатели — мне говорили об этом во многих частных и общественных библиотеках со всей искренностью.
Впрочем, будем реалистами. Можно было бы удивиться, найди я на полках у канзасских славистов библиотеку, аналогичную тем, что имеются на литературных кафедрах наших университетов, и наоборот. Миллион факторов, учтенных и не учтенных нами, тому причиной. И все-таки в конце концов, когда я оставлял в подарок университету советские книги, привезенные мной в сугубо частном порядке, подумал: а почему мы не рассылаем некоторых книг прямо из издательств по зарубежным университетам? В самой Америке такая практика обычна: редакции, издательства, даже некоторые авторы сразу же предназначают часть тиража для пропаганды (или, скажем спокойнее, для рекламы). Я интересовался в библиотеке Канзасского университета — огромном, великолепно оборудованном книгохранилище — фондами. Что же, огромное количество самой разной литературы университет получил в дар, — при этом почти всю антисоветчину. Стоят, например, «диссидентские» сочиненьица в общем алфавитном порядке, пальцами не захватанные: я просмотрел формуляры и убедился, что за два-три года у иных визгливых книжиц было по единственному читателю, а у других не было вовсе. А их же присылают, раздают, презентуют, проталкивают и вообще делают с ними все, что необходимо, дабы книга все-таки встала на университетской полке. А все советские книги закуплены университетом у СССР за валюту. А может, и нам порасходоваться бы — рассылать многое за границу бесплатно — не обеднеем. Я знаю, что существует интенсивнейший книгообмен и система книжных даров, используемая нами. Но, как убеждался я, этого мало; ведь даже популярнейшая «Литературная газета» никогда не относилась к своей «дармовой рассылке» с убежденной серьезностью — пусть, мол, выписывают…
Вот и получается, что специалисты по советской литературе, особенно будущие студенты, советской периодики не читают, даже самой тиражной. Выписывают они не много, библиотеки тоже не балуют своих посетителей, а жаль…
Итак, я выступал в университетах штата Канзас, а затем в университетах других американских штатов. Слушали очень хорошо; все, что из моих сочинений переводилось на английский язык, слушатели предварительно прочли — американцы любят встречаться с людьми, которых они хоть немного знают. Традиционный их прагматизм породил некую таблицу сравнительных ценностей, согласно которой в Соединенных Штатах воспринимаются гости. Такой уж это чужой монастырь со своим уставом.
Если ты совершенно никому не знаком, на сочинение верительных грамот или их уточнение уйдет неизбежное время; этому не следует удивляться — людей здесь принимают на веру весьма неохотно. И многие вопросы задают не для выяснения истины о чем-то, а для выяснения истины о тебе. (Совершенно естественно, что меня проверили «для доследования» — «на диссидентов», «на Никсона», «на хиппи», и с каждым моим ответом, чем искреннее он был, тем легче складывалось продолжение отношений. Я уверен, что, окажись я в Канзасе через год, мне задали бы примерно те же вопросы, как задавали их и прежде, дабы оценить возможные изменения, случившиеся во мне…)
Любая американская аудитория разношерстна, разнообразна по своим убеждениям и вкусам, — попытки потрафить ей заведомо обречены на неудачу, ибо из двадцати слушателей пятеро могут придерживаться одной точки зрения, семеро — другой, а восемь человек вовсе никакой не иметь.
Самое обидное, если говорить об основной массе моих слушателей — от океана до океана, — это незнание элементарных вещей о нашей стране, растворение главного в массе деталей, причем такой вот американский незнайка явно не с неба свалился, а был умышленно сконструирован, выстроен, воспитан.
В утешение мне — и доказательно — говорили, что американцы мало знают о Франции, Испании или соседней Латинской Америке; утешение, конечно, слабенькое, если еще учесть всю специфику незнания о нас. Разношерстность аудиторий определялась, как правило, тем, что часть слушателей нахваталась враждебной нам информации, часть, не веря слишком уж явным вракам, выдумала собственный образ Советской страны, а основная масса попросту удивлялась, получая любую информацию о СССР, ибо никакой не имела.
Если бы я жил в США постоянно, то, очевидно, тоже б не многое о нашей стране знал. Откуда? В газетах (даже очень солидных) единственной информацией из СССР в многостраничном номере может оказаться сообщение о том, что такая-то жена американского дипломата в Москве выписывает питание для своей маленькой дочки из Голландии.
Или: милиционер остановил на улице американского подданного мистера Смита и сделал ему какое-то замечание.
Или: шибко популярному среди западных журналистов «диссиденту» такому-то отказано в приеме в Кремле. И так далее.
Я убежден, что все упомянутые события (если их за события считать) могли случиться. Но, становясь единственной информацией из нашей страны за день, они приобретают звучание несоразмерное, и, естественно, меня вопрошали, как же там щелкают беззубыми челюстями советские детки, лишенные голландских харчей; как же быть американским туристам, если милиционеры хватают их на каждом шагу; как же это так, что в Кремле никого не принимают.
То, что значительная часть американской прессы застыла именно на таком давно осмеянном мыслительном уровне времен «холодной войны», чести ей не делает. Я нарочно сказал здесь не «американская пресса», а «часть», ибо сам давал интервью нескольким газетам, выступал по радио. Когда у журналистов в штатах Висконсин или Канзас я спрашивал нечто вроде «Как же вы это так — и не стыдно?» — мне отвечали: «Мы в Москве корреспондентов не держим, информацию о вас получаем централизованно — с аккредитованной у вас публики и спрашивайте…» «Спросишь с них, как же!» — говорил я сам себе, даже не обижаясь уже, а удивляясь, что во времена, когда космические корабли стыкуются на орбитах, а по Луне разъезжают электромобили, знание о жизни на огромной части земного шара пребывает у большинства американцев на вполне доколумбовом уровне.
Не я первый пишу об этом и очень боюсь, что не я последний. Довелось мне встречаться с множеством умных американцев, которые не хуже меня понимали, что, хочет этого кто-нибудь или не хочет, завтрашняя планета должна быть такой, где разные народы будут мирно жить рядом; вариант сообщества, шесть десятилетий назад предложенный нашей страной, нагляден. Можно не любить его, можно не принимать, в конце концов, но ложь и дезинформация никогда не принадлежат к достойным методам выяснения отношений.
Биография Америки очень сложна. Представители множества наций, рассеявшихся по США, ищут свое место на свете, и скрываемый от них советский опыт не становится менее убедительным от утаиваний.
Исподволь, незаметно людей можно приучить ко всему. Совершенно бесспорно, что советский школьник знает о Соединенных Штатах много больше, чем американский студент знает о СССР; но, рассказывая о том, кто, чего и сколько издает у нас об Америке или из американской литературы, я ловил себя иногда на ощущении, что некоторые мои слушатели воспринимают все эти речи как аргумент для утверждения в своем патриотическом неведении.
«До чего же мы интересные! Все знают нас и читают! Вот будете вы интересны — и вас почитают…»
Но таких мастодонтов было, к счастью, не много.
Интересовались либо вечными материями (третьекурсник Гэри Рой написал по-русски во вполне грамотной контрольной работе: «Я просто современный человек. Я искатель мудрости»), либо конкретными темами, как Джон Уайт. Джон, чернокожий студент, посещал мои занятия в Лоуренсе; фамилия у него была странная — Уайт, — очевидно, один из плантаторов несколько веков назад позабавился, дав его предку фамилию-кличку Белый.
Джон Уайт был похож на многих черных студентов, которых я видел ежедневно, — копна волос с мелкими пружинками прически «афро», в которую после лекций можно втыкать шариковую ручку (так студенты и делают), большегубое лицо выходца из Африки…
Оказалось, что не из Африки. Отец Уайта — армейский офицер, образованный человек — служил в Западной Германии и там женился на немке. Двадцать пять лет назад у белокурой и белокожей мамы родился мальчик, которого нарекли Джоном. Он рос среди немецких детей и начал учиться в немецкой школе. Когда отец вышел в отставку, семья Уайтов переехала в США и поселилась на тихой ферме Среднего Запада. Джон работал на фермах, трудился, выпекая булочки в здешней пекарне; приобрел некоторую материальную самостоятельность и пошел в слависты.
«Почему, Джон? — спросил я. — Что тебя привлекло к советской литературе? Как ты решаешься стать первым чернокожим славистом в Соединенных Штатах?»
«Это правда, чернокожих славистов у нас нет и специалистов по советской литературе не много, — ответил студент. — Но еще в Германии меня заинтересовала ваша культура и ваша жизнь. Чернокожие студенты не очень любят меня: я ведь неведомо кто — полунегр-полунемец. А я говорю, что надо бы им подучиться, как у вас живут и работают русские и нерусские вместе, — вы же Союз, правда? Прав я, что хочу побольше узнать о вас? Мне ведь надо…»
Конечно же я считаю, что все принявшиеся за изучение советской культуры глубоко правы. Надо быть оптимистом, вчера еще в США несравнимо меньше студентов стремилось к углубленному знанию о нас. Когда девять лет назад я сюда приезжал впервые, абсолютное большинство моих американских знакомых даже не догадывалось, что в Советском Союзе есть культуры, творящиеся на других языках, кроме русского. Сегодня для них откровением было уже то, что наша литература создается на семидесяти шести языках, и слушатели записывали к себе в тетрадки названия хотя бы первых по массовости десяти — двенадцати из них. Даже элементарные сведения о литературах Украины или Грузии, Латвии или Казахстана воспринимались с такой благодарной заинтересованностью, что я мог быть только признателен тем университетским профессорам, которые организовали мои выступления, и тем студентам, что ощутили потребность в них.
Все мои впечатления от собственных литературных вечеров в США находятся на перекрестке радости от встреч с людьми заинтересованными и добрыми — с шумными аудиториями, друзьями, которых рад буду видеть у себя дома, и обиды за то, что столько злости и лжи выстроилось высокими стенами между народами наших стран.
Я вообще уверен, что любой народ сам по себе не бывает злым или добрым, шовинистическим или равно любящим всех. Душевное устройство нации социально, и чтобы в американцах — многоязыких и мультитрадиционных — воспитать неуважение к какому-либо народу, надо очень долго и очень гадко стараться.
Скажу чистую правду: привыкнув в Америке скорее к национальному безразличию, чем к шовинизму, я очень болезненно ткнулся в этот самый шовинизм в городе Медисоне, столице штата Висконсин.
Выступил я в Медисоне на двух творческих вечерах, встретился с самыми разными аудиториями, походил немного в поэтах-профессорах неизвестных моим студентам литератур и, выяснив примерный крут вопросов, радовался преодолению пропастей взаимного отчуждения, вырытых между нашими странами весьма усердными и умелыми канавокопателями. Тем обиднее огорошил меня громко заданный — выкрикнутый — вопрос: «Почему все украинцы антисемиты?»
Поскольку я сам украинец, то чувствовал себя оскорбленным сразу несколько десятков миллионов раз. Попробовал ответить тотчас же, что не понимаю и не принимаю вопроса, а дома у себя с одинаковой энергией даю по физиономии мерзавцам, изощряющимся на тему о том, что все грузины торгуют мандаринами и вином в розлив, все русские хлебают лаптями щи, а все евреи взяточники и жулики.
Шовинизм мерзок в любой стране, а в моей он побежден революцией и наказуем по закону, я сказал об этом. Но вопрос был повторен так, будто я имел дело с глухим: «Почему все украинцы антисемиты?»
Человек, задавший вопрос, перечислил места еврейских погромов, случившихся в царские времена, рассказал очень громким голосом — не мне, на аудиторию — о Петлюре, Махно, Бандере. Даже Бабий Яр был упомянут как место избиения евреев в столице Украины, а памятник, всенародно возведенный в Бабьем Яре, обвинен в том, что на нем нет надписи об уничтожении евреев в Киеве. Человек рвался проверить документы у мертвых; он не слушал, когда я пытался рассказать о подлой царской черте оседлости, о классовости преступлений против наций, о собственном отце-украинце, арестованном гестаповцами в Киеве, о евреях, которые прятались в украинских домах — и в нашем, — потому что враг был общим и никогда не было большего преступления, чем натравливание нации против нации. Говорил я о Бабьем Яре: о советских военнопленных, партработниках, партизанах всех национальностей, поставленных под одни пулеметы с евреями. Попытался даже рассказать о киевлянине Шолом-Алейхеме и о том, скольких еврейских поэтов переводил я на украинский язык. Человек перебил меня и повторил свой вопрос с упрямством кукушки из ходиков: «Так почему все украинцы антисемиты?»
Ах, как прекрасно я понимал, что вопрос не адресуется мне. Я знал, что профессор Генри Шапиро — так звали человека с вопросом — умышленно сеет в аудитории дезинформацию и злость, недовольный добрым тоном нашего разговора. И еще я знал, что в течение долгих лет профессор Генри Шапиро, преподающий сейчас в университете штата Висконсин, заведовал в Москве корреспондентским пунктом Юнайтед Пресс, распространяя информацию о нас по всему свету. Уж не он ли многие годы внушал моим слушателям, что киевляне пьют кровь еврейских младенчиков?
Не хочу больше об этом: добрых людей мне встречалось в Америке гораздо больше. И когда в бульварных газетках рисуют кровожадного комиссара с охапкой бомб в руках, я счастлив знать, что все меньше людей верит таким картинкам. И писаниям на уровне этих картинок.
Профессор Майклсон, чье имя я вспоминал в этой главе, — датчанин по происхождению («Как ваш Даль, составивший бессмертный Толковый словарь», — смеется Майклсон). Он одним из первых в Америке ввел основательное изучение советской литературы на кафедре в Канзасском университете.
Майклсон и его коллеги настойчиво ищут путей более глубокого и плодотворного знания, это стало профессиональным и жизненным принципом не только для них.
В Соединенных Штатах как нигде, пожалуй, важна роль профессора — или уж называйте преподающего человека как угодно. Стандартных учебников в этой стране практически никогда не существовало даже в школах; только для постижения школьного курса истории, например, существует больше двух тысяч различных пособий.
Тем выше значение человека, рассказывающего первым, первым направляющего внимание и ответственность слушателей своих.
Америка огромна. Переезжая из штата в штат, я ловил себя на мысли, что эти города, рощи, шумные университеты так далеки от моей Родины, так не похожи на наши и тем не менее близки мне. Люди, с которыми я встречался и перед которыми выступал; аудитории, где чужой язык пульсировал в гортани, отдавая мне самые важные слова для разговора о главном, — это было непростым и недоверчивым миром, все лучше понимающим, что ненависть убийственна и сеятели ее — враги.
Дезинформация — тоже ведь разновидность ненависти и страха; замалчивание — разновидность дезинформации.
Я начинал эту главу с терминологических уточнений и заканчиваю ими; есть ведь слово, очень авторитетное за океаном, — «знаток», то есть человек, хорошо разбирающийся в избранной области знаний, специалист.
Со всей убежденностью заявлял я на выступлениях, что нельзя считать себя знатоком современной советской поэзии, например, без знаний о Бажане, Тарковском или Абашидзе, Слуцком, Ахмадулиной, Марцинкявичюсе и Сулейменове, Кулиеве, Вациетисе, Севаке или Чиладзе, Виеру, Зиедонисе, Чарквиани, Каноате и еще многих, многих, многих советских литераторах, о которых мои слушатели, как правило, понятия не имели.
На этот раз я побыл в профессорах всего лишь два месяца и знаю, что не успел рассказать даже малой части всего, кажущегося мне столь важным для взаимного познания. Умная, думающая Америка — я выступал преимущественно перед такой — все интенсивнее записывает своих детей в начальные классы великой школы взаимопонимания и дружбы.
Дорога строится. Как на всякой дороге, здесь тоже порой взвизгивают тормоза и вмятые машины сбиваются в кучу — кто-то соорудил завал, кто-то нарушил правила, кто-то швырнул бревно поперек осевой линии. Преодолеем и это.
В Финиксе, штат Аризона, после выступления в университете мне сказали: «Здесь бывали уже поэты из разных стран — и советские; мы живем в сердце пустыни — видели? — но и в песках деревья проросли, люди поэтов слушают — все пустыни преодолимы…» Ведь вправду все пустыни преодолимы; вера эта прекрасна, стоит для нее жить и трудиться.
После такого, очень серьезного заявления я позволю себе закончить главу историями повеселее.
В Уэлене на Чукотке мне показали как-то очень красивую лайку с голубыми глазами и независимым колечком пушистого хвоста. Имя у лайки было довольно странным — Диверсант, — и я удивлялся ему, но узнал, что лайка перебежала на советскую территорию из Америки по льду.
Когда я рассказал об этом своим американским слушателям, они никак не могли поверить, что лайка, даже американская, в состоянии пересечь океан. Никто не помнил, что ширина Берингова пролива всего лишь несколько десятков миль. Тогда я нашел в своей папке американскую карту автомобильных дорог — все на ней было нарисовано точно, и сомнений в расстоянии больше не оставалось. «Да, — сказал один из моих студентов, — проморгали собачку с таким знанием географии… — Помолчал, подумал и сказал уже серьезно: — Я недолго поработал на Севере. Там в пурге и в ночи люди точно выяснили, что поодиночке выжить нельзя. Всегда, когда назревает опасность, народы ищут поддержки друг в друге. Вот пойду я на американский берег Берингова пролива, посвищу — может быть, лайка вернется и расскажет мне о том, что люди узнают и воспринимают столь трудно, такой дорогой ценой… — Взглянул на меня и добавил: — Вам же говорили, что это не только с вашей страной так? Вон Пьер Элиот Трюдо, премьер-министр соседней Канады, только что протестовал, так как у нас его официально назвали канадским президентом…» Что с другими странами бывает по-всякому — это факт; только что, бывши в Чикаго, вычитал в воскресном выпуске солидной «Чикаго трибюн» сообщение туристской фирмы, советующей съездить в Вену: «Теперь там все меню печатаются и по-английски, а не только на австрийском языке, как раньше…»
И все же — на всех языках сразу: «австрийском», «австралийском», «аргентинском» и «американском» в том числе, — надо говорить о взаимопонимании, мире и необходимости жить, сотрудничая, а не воюя. Да разверзнется слух у глухих, да замолкнут все те, кто неправ…